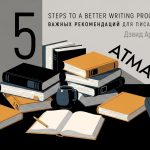Дмитрий Бобышев
Праздник тёмных сил
Последний том трилогии «Человекотекст» заканчивался таким абзацем:
“16 января наступившего 1992 года та же «Дельта» доставила Галочку в полной сохранности. Молодец, она не оробела, добралась из далёкого Питера до самой сердцевины Северо—Американского материка… И, как всегда, вовремя. На парковке шёл снег, темнело. Пока выбирались на «Интерстейт 57», стемнело полностью, и вместо плоских равнин по сторонам мерещились высокие стены, как будто мы движемся в узком ущелье, ориентируясь лишь на красные огоньки едущей далеко впереди машины. Вот она сворачивает, и я готовлюсь к повороту. Вот исчезла, и мне остаётся держаться только белеющей в свете фар дорожной разметки. Приходится снизить скорость – позёмка змеится через дорогу. Утомлённая перелётом, Руби задрёмывает, склоня голову набок и не догадываясь об опасности езды. А у меня уже началась очередная по счёту жизнь…”
Вот об этой-то запасной жизни и шёл разговор вчера за столиком итальянского ресторана Biaggi, где мы с Галей обычно отмечаем наши семейные даты и вехи. Она уплетала лазанью, я ублажал себя, извлекая моллюсков из приоткрытых створок и окуная в горячий и острый соус. На этот раз веха была отменная: 25 лет нашего позднего брака, третьего в моей и первого в галиной жизни. Вместо того, чтобы лить серебряные слёзы о том, что золотого юбилея нам уж никак не дождаться, мы вспомнили денёк, когда стала отсчитываться эта заветная дата.
Нам самим казалось тогда, что мы уже чуть-чуть запоздали для начинаний, а вышло, что нет, ещё вполне (особенно, если глядеть из нашего серебряного настоящего)! И, как в былой, позапрошлой молодости, я вновь обнаружил себя на мели. Жёсткий и жестокий развод разорил меня. «Бывшая» отобрала у меня дом, кастрировала кота, не дала мне взять с собой хотя бы простейшую утварь и оставила с долгами, которыx далеко не покрывали её отступныe. Всё ж было и утешение: купленная мной у араба жёлтая Канарейка с перекрученным одометром оставалась ржаветь в моём владении. А ведь тут без колёс — никуда… Пеший в Америке — пшик, ничто! Местные ездоки прямо вываливаются из пикапов и шеви, пялясь на такую невидаль, как пешеход… Ничего, мы ещё прокатимся на этой японской штуке с ручной коробкой передач от побережья до побережья! Я так же, как она, рыча, заводился на этот счёт с полоборота.
Работёнку почётную мою (на полставки) я отстоял, студентов на лекциях было достаточно, а в Америке, как я понял, едва вдохнув её воздуха, с голоду не помрёшь, и мы с моей суженой переживали счастливый период “мечтательного пауперизма” — не называть же эту в общем-то разлюли малину “опрятной бедностью”! Неимоверное, уходящее за горизонт изобилие жратвы в супермаркетах, которое я уже описал ранее в “Жизни Урбанской”, теперь уже одически изумляло нас обоих в жизни Шампанской, где мы поселились в уютном подвальчике у мистера Томпсона. Да, из голодного края оба, от пустых магазинных полок, а Галя к тому же и в статусе “блокадного ребёнка” (всем ли это понятно здесь и теперь?), да и я в пост-мариупольских мыканьях по Кавказу вряд ли бывал избалован мамалыгой да кукурузными чуреками, так что интерес такого рода мы и за годы не растеряли.
“Ты да я, да мы с тобой” — ленту с таким девизом можно было бы вывесить над скромным фронтоном нашего жилья, а ещё лучше протащить её кругами по воздуху, как это делает спортивный самолётец над стадионом в часы футбольного бума. Нет, я старался скорей вовлечь мою суженую в круг университетских знакомств, таскал её и в нашу прославленную библиотеку, и ко мне на Славянскую кафедру, и на вечеринку с местными поэтами, и даже на официальный фуршет к так называемому “маркизу Карабасу”, где мы оплошно уронили тарелку с креветками на пол… Но лучше и интересней всего было нам вдвоём, в полном соответствии с девизом.
Между тем, прибыли разводные бумаги (судебный процесс я благополучно проснобировал) и, минуты не побывав на стылой холостяцкой свободе, я подал новое заявление в здешний аналог ЗАГСа. Церемония назначена была на самый канун всеобщих беснований под названием Халлоуин!
Думаю, что публика уже наслышана из других источников об этом сугубо здешнем своеобразии-безобразии, об окутанных паутиной “спуки-хаусах” с привидениями и летучими мышами, о зубасто оскаленных тыквах и скелетах. Дети ведь любят жуткое. И сладкое тоже. И к нашему райскому шалашу подходили маленькие страшные пираты и феи, запускали ручонки в протянутую корзину со сластями, стараясь заграбастать побольше…

Но дело в том, что и взрослые, как бы шутя, а на самом деле всерьёз вовлекаются в детский праздник, и те, у кого шаткая психика, перевозбуждаются сверх всякой меры. Вот и случаются кровавые тёмные деяния в этот вечер. Аспирант серб подстерёг на парковке, когда уж стемнело, секретаршу итальянку из Антропологии (я её видел как-то в гостях), схватил, зажав рот, разбил ногой подвальное окошко на задах, затащил её туда, изнасиловал да и зарезал. Потом бродил всю ночь по кампусу, вышел к железной дороге и бросился под утренний поезд. Мимо того разбитого окошка пролегал мой самый короткий путь в кафе на ланч или на кружку пива после занятий, и каждый раз я, там проходя, вздрагивал.
Добавьте к такой атмосфере ещё и осадков в виде холодного моросящего дождя, ветра с порывами от 10 до 15 миль в час и отнимите у меня Канарейку, которую пришлось сдать механикам, а они перед праздником не успели её починить. Представьте теперь исполненного надежд жениха и охваченную счастливыми предчувствиями невесту, бредущих рука об руку в городскую управу и суд, где их ожидает несложный, но аж на самих небесах свершаемый бюрократический обряд.
В небольшом зальце с дубовыми скамьями было пусто: мы никого не приглашали в свидетели. Вошла рослая судьиха с лысеющей головой, на ходу застёгивая мантию поверх розовой майки. Майка так и осталась торчать из-под широкого воротника, а снизу виднелись джинсы и сникерсы. Весело оглядела нас, посетовала на погоду и поинтересовалась, не нужен ли рэбе. Мы удивились, но решили обойтись без раввина. Посерьёзнела, раскрыла фолиант, зачитала цитату, спросила о согласии, получила от каждого сакральное «Ай ду!» и объявила нас мужем и женой. Я от умиления уронил скупую, мужскую…
Между прочим, Галя была дважды свидетельницей на моих предыдущих пышных свадьбах, а на этот раз и сама оказалась невестой. Как говорится, Бог троицу любит!
Мечтательный пауперизм
От парадного великолепия кампуса на восток простиралась Урбана с её местным снобизмом, с домиками «профессорского гетто», большими деревьями и всё далее отплывающим в прошлое бытием — былым и уже отработанным, а на запад распространялся Шампейн, который предлагал начать совсем новую жизнь, шампанскую. Общежития греческих братств и сестричеств сменялись такими же двухэтажными особнячками, как в Урбане, но иные из них, заселяясь студентами, превращались в подобия коммуналок, впрочем, довольно приличные. Гуляя вдвоём по округе, я знакомил Галю с той Америкой, которую на взгляд и наощупь изучали когда-то Ильф с Петровым в автомобильной поездке. С тех пор она повсеместно выросла на этаж.
Знакомил с деревьями, которых она прежде не видела:
— Это лириодендрон, тюльпановое дерево. Называется так по форме листьев, напоминающих лиру или цветок. А мне он напоминает Игоря Тюльпанова и ещё, помнишь? — романс Вертинского про голубого великана. А это хагберри, местный орех. У него орешки мелкие, несъедобные, зато само дерево вон как размахало, кроной всю улицу перекрыло, прямо какой-то древозавр!
— А это магнолия средиземноморская, — узнала Галя раскидистую купу крупных глянцевых листьев. — Смотри, скоро зацветёт!
Я-то хотел показать ей цветение других, здешних магнолий, ветви которых покрываются большими белорозовыми цветами ещё до того, как распустятся листья. Или иудино древо с тёмно-сиреневыми бутонами по всему кривому стволу и вдоль сучьев, но до весны ещё было далеко, хотя и зима, казалось, отступила от своих прямых обязанностей.
Впрочем, настала пора, и марсианская невидаль явилась во всей красе. Это были души деревьев, которые вдруг пробудились и заговорили-зацвели бесстыдно, наивно и сладко — о чём же? Необязательно быть ботаником, чтобы разгадать их язык, состоящий из одного лишь слова: люблю… А теперь представьте купы кустов и целые рощи, где вместо листьев только вот эти говорящие лепестки.

Каменный кубик мистера Томпсона был своего рода вещью в себе, построенной с завидным логическим совершенством: четыре квартиры провожали окнами закат солнца, четыре смотрели в надвигающуюся тьму, и ещё две выглядывали из-под них на улицу. Казалось, их можно, вращая, заменять одну на другую, как в магическом Рубике. В нижней поселились мы, молодожёны среднего возраста; за стенкой от нас двое студентов медиков, которых мы окрестили «врачатами», по утрам пережаривали яичницу до такой степени, что чад проникал по общей вентиляции к нам, а вечерами хохотали до упаду над своим медицинским сериалом «M*A*S*H», за что получили ещё одно прозвище — «ржунчики».
В квартире над нами поселились две пары совершенно неразличимых, почти взаимозаменяемых «латинос» из Доминиканской республики, смуглых и белозубых коротышек, которые непрерывно щебетали и общались друг с другом, словно волнистые попугайчики, их островные со-обитатели. Когда, наконец, выпал в ту тёплую зиму снег, они высыпали во двор, любуясь белым чудом с небес, ловя и разглядывая тающие снежинки, пробуя на язык, сминая комками, швыряли снежки друг в друга, одни наспех пустились лепить снеговика, а другие падали навзничь в наметаемые сугробы и взмахами рук оставляли там отпечатки снежных ангелов.
К утру всё завалило белым. Улицу ещё с ночи стали расчищать плугами тяжёлые уборочные машины, а двор оставался непроезжим. Канарейка едва виднелась в непролазном сугробе, покрытая снежной попоной. Как же я теперь доберусь в университет? Ведь я положил за железное правило не пропускать ни одного занятия! И, что интересно, из-за такого рвения даже зимние простуды меня не брали. А тут самому приходится отступать…
В этот момент раздалось шарканье лопаты. Спасателем оказался наш сосед по кубику с верхней квартиры, мрачноватый парень рабочего вида, и при этом — счастливый владелец лопаты! Возможно, он был нанят мистером Томпсоном как раз для такого дела. На взгляд из окна было похоже, что двор уже свободен от снега, я выбежал, чтобы скорей вскочить в машину и рвануть на кампус. Но не тут-то было! Вся парковка была аккуратно расчищена, кроме высокой гряды, наваленной вокруг Канарейки… Рискуя пуговицами, я кое-как просунулся в машину. Молодчина, она завелась сразу, мы взревели с ней в заединстве, пытаясь протаранить сугроб, да куда там! Колёса проворачивались, буксуя…
Полчаса я стучал в дверь пакостника, то требуя, то выпрашивая у него лопату, пока он, наконец, не соблаговолил её выдать… Почему же он так со мной поступил? Он, видите ли, утомился и, не доделав работы, прилёг отдохнуть, да и заснул… И мне же пришлось говорить ему «сорри».
Шауни парк
Летом я решил доказать Гале, да и себе самому, что Иллинойщина, куда я её завёз, это не плоская «степь да степь кругом» с грандиозным Чикаго на северной оконечности, с университетом где-то посредине и кукурузными полями по одну, а соевыми по другую сторону от дороги. Нет, как я слыхал, в отдалённом углу на юге штата имеются совершенно дикие романтические места. И мы туда рванули…
Кондиционер имелся у нашей самобеглой старушки, но он отбирал у неё большую часть мощности, поэтому на большой скорости я его не включал, и в приоткрытые окна затягивало помимо неизбежных ароматов дороги какой-то смутный, тонкий и даже изысканный запах, чем-то похожий на знаменитую поджаристую корочку из песни Булата Окуджавы, только тоньше и загадочней. Долго мы с Галей ломали головы, но наконец разгадали. Это цвела кукуруза. Вообще Америка пахнет питательно, сытно. По утрам витает у оффисных зданий бодрящий аромат свежемолотого или хотя бы свежезаваренного кофе. То вдруг залетает дымок от соседского гриля, где готовится пара классических гамбургеров, а когда проезжаешь мимо тайского или даже итальянского ресторана, победительный дух жареного чеснока ещё долго преследует воображение. А запах скошенного газона в жару, когда высыхающая на солнце трава дышит в окна? А — просто вольный дух прерий? Правда, многие цветы пахнут слабо, но по весне вербена, а летом японские сирени благоухают за милю! А уж когда похолодает, когда выйдешь в туго вязаном свитере, в грубых ботинках на крыльцо, тут и пахнёт вдруг берёзовыми чурочками да берестой для растопки незнамо откуда, и так вдруг станет крепко, основательно твоё здесь существование!
Пока мы ехали на юг, счёт я вёл не на версты, а на университеты: вот направо указан съезд на Милликин Юниверсити, затем влево Истерн Ай Ю в Чарльстоне, а значительно южней и тоже налево — Карбондейл, где я уже выступал, и где мне недоплатила секретарша сколько-то там «бакс» — не заезжать же за ними теперь! Прочь, меркантильность, мы въезжаем в крутизны скал, во влажные каньоны меж ними, смелые поросли сосен на грани обрывов, — в таинственное и безлюдное владение индейцев племени Шауни, где сами они растворились, исчезнув, но незримо, как на таинственных картинках «Найди охотника» в кустах и ветвях между сучьев присутствуют и наблюдают за нами, пришельцами.
А мы и не скрывались. Оставили Канарейку у дороги, перешли через мостик на остров, заросший падубом и стрекающим плющиком. Нашли плоскую террасу и разбили палатку, я разжёг походный гриль, распустил по окрестности дымок с питательными, далеко летящими запахами. Начинало смеркаться. Цикады принялись за металлическое по звуку сверление воздуха. Раздались какие-то механические бряки со стороны дороги. Выехал старый олдсмобиль и остановился у мостика. Оттуда вышел некто толстый («пиво» — поставил я свой диагноз) и некто исхудалый и длинный («наркотики»), с ними несколько типов помельче. Изучили нашу машину, пошли через мостик, поглядывая в нашу сторону. Молча, без каких-либо приветствий углубились в заросли леса. Я тревожно оглядывался: не зайдут ли бесшумно с тылу? Через некоторое время вышли там же из лесу, перешли, уже не глядя на нас, через мостик, сели в свою развалюху и уехали. Вздох облегченья…
Стемнело, но цикады не унимались. Застёгивая палатку, я вдруг заметил пару фосфорических глазенап, уставившихся на нас из густой темноты.
— Шшшш-ух! — пугнул я нежелательного зрителя. Глаза исчезли. Галочка, уверенная в своей безопасности, раз уж я с ней, спокойно заснула. «Ты ж у нас американец», — говаривала она в затруднительных случаях. Но я-то не чувствовал, что мы в безопасности! Глазища появились опять. Они просвечивали даже сквозь ткань палатки. Послышались возня, копошение, затем звуки разгрызания чего-то хрупкого. Я понял: зверь грыз наш холодильный ящик из пенопласта, где находилась еда. Ну нет, этого я не позволю! Я вышел с фонариком и увидел лишь полосатый хвост, метнувшийся в темноту. Нет, не койот и не пума. Это был всего лишь енот, но голодный и упорный. Моих пугалок он не боялся и уже почти прогрыз угол холодильника. Ах, так? Придётся тогда прибегнуть к химическому оружию. И я распылил на пенопласт антикомариный баллончик. Какие я потом услышал возмущения, когда улёгся в спальник! Зверь чихал, плевался и явно крыл меня последними словами…
Меня разбудила моя бесстрашная подруга:
— Эй, вставай, иди купайся! Я уже поплавала, видела змею в воде.
Я пришёл в ужас.
Всё же мы накупались в озере и нагулялись по парку, нагляделись на орлиные виды скал и ущелий, на просторы совсем ещё неосвоенной земли, увезли с собой целый багажник белых грибов, которых нашли на обратном пути как раз в придорожной зоне отдыха прямо под скамейками и между пикниковыми столами. А ещё привезли в галиных буйных кудрях напившегося кровью клеща, которого пришлось мне извлечь оттуда поэтапно, недели за полторы.
А те, кто приходили, — те, видимо, и были из племени шауни.
Юля и Слава
На жизнь нам вполне хватало моей полузарплаты, и ещё оставалось в загашниках полно неоценимой волшебной валюты — свободного времени, которое мы занимали тысячью насущных дел. Мы были здоровы, бедны и, следовательно, условно молоды. Правда, молодость эта числилась уже не первым номером, и в напоминанье о возрасте у меня совсем не по-комсомольски подскочило давление.
Солидный американский врач, который меня пользовал в жизни Урбанской, ушёл на пенсию, и мне пришлось записаться к новому. Им оказался безусловный грек, осмотревший меня с отрешённым видом. С ним я попытался установить хоть какой—то человеческий контакт на почве якобы общего для нас православия. Не тут-то было! Он осматривал меня, а думал о своём, и на его лице крупно читалось размышленье — назначить ли мне какое-нибудь сложное обследование или же распатронить на дорогостящее лекарство. Он решился на оба (both — так здесь кратко обозначают и то, и другое).
Я вернулся домой, обмотанный под одеждой проводами и трубками, с манжетой, прикреплённой к тому, что врачи называют плечом, а все нормальные люди — предплечьем, и это устройство автоматически раздувалось, сдавливая руку и транслируя данные прямо греку на монитор. Это меня пугало во сне: вдруг пригреживалось какая-то грубая чушь: покушение и удушье, затем сквозь кошмар я заставлял свой мозг осознать, где сон и где явь, подивиться её бредовости, попытаться вновь задремать и спустя несколько сонных мгновений опять вздрогнуть от внезапного сжатия… И так ежечасно и круглосуточно.
Хорошо, что накануне мы заехали в супермаркет запастись едой на неделю. Пришлось бы утром ехать, вести машину со всей этой сбруей на себе. А погода как раз начинала портиться. Но тут Галочка моя обнаружила, что мы забыли купить укроп. Укроп! Какая может быть жизнь, какая еда — без укропа? А он продаётся только в одном месте, ибо не пользуется спросом у коренных американцев, лишь у поляков да русских. Что ж делать, едем за укропом. Ничего страшного: ноги, как водится, на педалях, левая рука на руле, правая на переключателе скоростей. Но вот на левой начинает раздуваться манжета, сгибом локтя я её мну, разворачиваясь, и одновременно посылаю дикие сигналы куда-то на монитор. А в лобовое стекло ударяют крупные капли, прямо на нас накатывает иссиня сизая туча. Здесь ведь природа молодая, любит для бодрости раззудить плечо (или предплечье), да и хряпнуть новосёла дубиною по башке. Гроза, да какая! Трах-тарарах, а ещё и град. И манжета опять посылает соответствующие данные…
Укроп мы достали, но врач на основании этих данных удвоил дозу лекарств и оправдал перед страховочной компанией свой причудливый эксперимент. С оплатой (а она шла за мой счёт) мы разобрались позже.
Гаражные распродажи нам помогали в обустройстве подвальчика, а когда наступило тепло, даже сразу — жара, я посеял на бордюре перед нашим низким оконцем семена, которые, словно Робинзон — зёрна в складках карманов, нашёл я в сувенирной коробочке, оставшейся от былой жизни. Они затерялись в щелях берестяного плетенья, пришлось бережно вытряхивать их оттуда. Это были семена аругулы, пряного итальянского салата, который я выращивал прежде в Урбане, — ещё большая редкость, чем укроп, и символические лары в моей душе встрепенулись, посвежели и ожили вместе с теми ростками.
Раскладную этажерку притащила (и дала нам бессрочно) щедрая на подарки Юля, и у меня образовалось место для многочисленных словарей. Действительно, с Юлей бывало связано всё, что касается книг: прежде всего, она служила в Научной библиотеке, где я толокся почти постоянно, вороша советские и эмигрантские газеты или замирал в кресле, увлёкшись полемикой в толстом журнале, а наша чудо-библиотека выписывала их все. Да об этом есть и в «Жизни Урбанской». Заходишь в Славянское отделение, и если тебя встречает приветливая улыбка, то это Юля. Хорошо видеть счастливую женщину, даже если не ты её осчастливил. Перекинешься с ней парой полушутливых новостей, но не больше, ведь она занята, да и ты здесь по делу. Чёткая Хелен вмиг находит нужную библио-справку, тут же её отпечатав на принтере, и что-нибудь сверх дежурной благодарности ей тоже надо сказать, но уже по-английски. Свежий номер парижского «Континента» (да ещё с твоей публикацией) со вздохом уступает Жора Дурман, который не по праву зачитался на рабочем месте; Давид Арановский, впоследствии Дэйв Аренс, удивит и озадачит каким-нибудь книжным курьёзом, а Надя Винокур даст в руки ещё не оприходованную новинку… И в сумме ты счастлив.
Но с Юлей мы дружим ещё домами. Её муж Слава видный математик, он преподаёт сразу в двух университетах: в нашем и ещё одном, в часе езды к югу, и этот путь туда и обратно он проделывает за рулём надёжной шестицилиндровой Камри, клюя носом от однообразия наших степных пейзажей, но никогда, никогда не теряя внимания к дороге, иначе это сразу привело бы к происшествиям. Юля правит иначе, живо отвлекаясь на попутные впечатления, и сюрпризы у неё бывали. Слава служил в израильской армии в конфликтную пору, но о бое-столкновениях и опасностях ратного дела не распространяется. Зато с удовольствием рассказывает гостям о своём уникальном, в духе бравого солдата Швейка, подвиге. Он умудрился весь срок службы сохранить противоуставную бороду, несмотря на грозные приказы, коварные засады и набеги командования, заслужив тайное восхищение соратников.

Вот у них дома была библиотека — мечта (а, возможно, и мучительная ревность) букиниста, где хранились и ценности, и редкости, и шутейные курьёзы. Нет, не золотые обрезы (кого ими теперь удивишь?), но и они тоже. А вот прижизненным «Евгением Онегиным» похвастаться может не всякое крупное собрание. Но и обрезы тоже бывали причудливые: например, с городскими пейзажами, с оживающими от пролистывания сценками, — эдаким старинным подобием мультипликации. Однако, меня заворожил иной движущийся эффект. Это был уникальный альбом рисунков Эмиля Антуана Бурделя, моего почитаемого скульптора, автора того самого «Стреляющего Геркулеса», которого я противопоставлял «Стрелку из лука» Криштофера Штробля. Им когда-то восхищалась в стихах Наталья Горбаневская, а я нашёл в «Геркулесе» исконный образец, многократно превышающий «Стрелка» по мощи и выразительности. Но в альбоме Бурдель предстал обожателем Айседоры Дункан, преследующим танцовщицу от концерта к концерту, в беглых набросках запечатлевая её характерные повороты и жесты, воссоздавая таким образом хореографию ног и ветреных одежд. Почему этого не сделал в стихах её мимолётный любовник и муж? Не понял, не оценил? Или — ревновал к её славе?
СТИХИ ДЛЯ ЮЛИИ
Эмиль Бурдель, поклонник Айседоры,
поймал неуловимую пером,
нанёс порывов бурные узоры,
извивы тела, взмахи пройм
одежд летучих, завихренья, складки,
способность в мановении любом
застыть, как миг, и гётевский, и сладкий.
Листы он переплёл в альбом.
Там розы рук растут пучками жестов,
и лилии босых и сильных ног
цветут о чём-то ни мужском, ни женском
(Сергунька это разве мог?)
Дух чуток в резвом теле, но бессмертья
у плясок нет, что линия хранит,
она мгновенья нижет, разумея
времян связующую нить.
«Лублу» – сквозь сон и смутно, и картаво
лепечет тёплая, творцу, а он
в мозгу клокочущем родит – кентавра?
Героя? Вот – Геракл, Хирон…
Когда же плавка пламени достигла
(работать с ним – литейщикам беда!)
он в тигель из какого-то инстинкта
снял с пальца перстень, и – туда.
Из бронзы оба. Но один поранен
стрелой другого. Яд втравился в медь.
Он двуприроден в этой древней драме:
бессмертный, хочет умереть.
Французский парк средь кукурузных прерий…
В конце аллей, как жалоба, как бред,
бессилен, большерук, глаза в страданье вперив,
стоит кентавр. Автопортрет?
Аллертон парк
Действительно, минутах в сорока езды от нас в соседнем графстве Пиатт находится латифундия, которая, подобно многим угодьям в наших окрестностях, принадлежит Университету. Прежде это была собственность чикагского банкира и богача Аллертона. О тутошних скотобойнях все, наверное, слышали? Какая-то от них доля принадлежала ему. С годами, однако, немногочисленные наследники всё более обременялись налогами, отходили от дел и стремительно “голубели”, не оставляя потомства. Последним из них был ценитель искусств Роберт Аллертон, который жил там с приёмным сыном. Он посчитал за лучшую долю вовсе избавиться от хозяйственных забот и передал все права на собственность вместе с запутанной бухгалтерией в дар Университету, был по этому поводу очень прославлен и удалился до конца дней в другую латифундию, расположенную в несравненно лучшем климате на Гавайях.
А парк стал открыт для публики, да изредка в усадьбе устраивались конференции для университетской элиты. Оттуда открывался вид на водоём и неохватный луг с синеющим вдали лесом. Справа располагались оранжереи и протянувшийся в пространство регулярный парк. Цветники чередовались с лабиринтами из кустов стриженого тиса и можжевельника, аллея траурных туй с каменными скульптурами переходила в лесную бесконечность.
Именно там, где-то в шагах от бесконечности, внезапно восстав на громадном валуне, высился он, «Умирающий кентавр», отлитый из бронзы с таинственными проблесками, до которых допытывались падкие на металл посетители. Видимо, геркулесова стрела сумела долететь и поразить его: голова Хирона была запрокинута назад, круп оседал, оскальзываясь копытами на камне, но мощная рука, отведённая за спину, ещё удерживала тяжёлую лиру.

партерную часть парка мы любили возить гостей — ну, например, моего одноклассника, ошалевшего от Америки, да и вообще от первой своей «загранки». В аэропорту я едва отличил его от румынских иммигрантов, — школьного приятеля, вдруг постаревшего до моего возраста, одетого в пальто покойного отца, которое, понятное дело, в обратный путь уже не поехало. Багаж его отягчали килограммы пёстрых советских значков — юбилейных, комсомольских, спортивных, пионерских и даже октябрятских знаков отличий и много другой символической мишуры: ГТО, Ворошиловский стрелок, Осовиахим, знак «10 парашютных прыжков» на бронзовых цепочках и прочие великолепия, оставшиеся от рухнувшей империи! Он надеялся обменять артефакты былого на твёрдую валюту. Увы, спрос уже кончился.
Эта барахолка совершенно заслонила в памяти нашу поездку в Аллертон. Может быть, мы туда и не ездили из-за межсезонья. Зато мы возили приятеля ещё дальше, в Сент Луис, «в избу-читальню, 102-й этаж, где русский бальный лабает джаз», как пели мы когда-то в 10-б классе. Такого этажа там не оказалось, этим был знаменит Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке, не путать со 110-м этажом Башен Близнецов, которых поздней разбомбили больные на голову арабы. Но так или иначе, а подходящая высота нашлась, — то была стальная арка, воздвигнутая Ээво Саариненом на берегу Миссисипи как «Врата на Запад», символ американской экспансии. Мы с Галей там уже побывали раньше, пришлось нашему дружку без нас, в иноязычном окружении вознестись в вагонетке пологого лифта и с верхотуры обозреть необозримое…
Взыскательный консьюмеризм
Доминиканские «попугайчики» съехали, латинский щебет умолк, и над нами освободилась квартира. А я уже давно подумывал, как бы покинуть наш обжитой подвальчик, в особенности после грозного небесного предупреждения, случившегося накануне. Природа здесь вообще любит показать свой молодой темперамент — ветры свиваются в разрушительные вихри, а дожди в момент готовы превратиться в потопы, едва где-нибудь засорится ливневая канализация. Вот такой «дядя Струй» из гениальной «Ундины» Жуковского-Фуке вдруг возник на нашей Церковной, но, устремясь потоком вдоль подвальных оконцев, бурляще-клокочущий дядюшка свернул не к нам, а к соседу и сквозь его гараж хлынул на заднюю Холмовую улицу. Никаких холмов там, разумеется, не было и в помине, а вот ливнёвка оказалась забита мусором, и всю низину затопило. Мы как раз проезжали там, спеша домой в нервах… Едущий навстречу пикап поднял волну, и Канарейка заглохла. Находясь в середине водного разлива, я никак не мог завести мотор. Но дорожная солидарность сработала, нашлись какие-то добровольцы, честь им и слава, которые вручную протащили машину вокруг квартала и оставили на сухом месте у наших дверей.
Мистер Томпсон согласился на ту же плату, и мы переехали вертикально вверх, в квартиру над нами. Из доминиканского наследия Галя взяла лишь ёлочные украшения с гирляндами, которые переливались, подмигивая разноцветными лампочками, а навершие с Вифлеемской звездой сияло огнями, мерцало и пульсировало в пламенном ритме. Под эту иллюминацию мы впоследствии выпили не одну бутылку игристого, из года в год улучшая марки вин, следуя от копеечного Андре к брюту Корбел и постепенно дорастая до Редерера и даже Вдовы Клико! А вот до Дома Периньона мы ещё не доехали… Пользуясь космополитическим статусом, мы отмечали, ликуя, сначала католически-протестантское со здешним народом, а затем наше Православное Рождество, не забыв, конечно, и расположенный между ними всеобщий Новый Год! Да, ликуя и аллилуйя по поводу нашего, пусть «лучше поздно, чем никогда», зато и удачнейшего союза.
А ёлки… Русские первоиммигранты в этом отношении подавали шепотком на ушко дурные, но практические советы: они с улицы подбирали ещё свежие деревца, выброшенные сразу же после вскрытия подарков, утром 26-го декабря и, притащив их в дом, могли встречать под хвойными ветвями и Новый Год, и «правильное» Рождество, и сугубо русский Старый Новый Год, — этим поводом любят пользоваться для опохмела шибко загулявшие личности. К тому же на этот чёрствый праздник родился Игорь Тюльпанов, чародей кисти, искусник пера и повелитель цветных карандашей.
Как раз в это время года, в самом конце декабря, любила устраивать свои съезды Ассоциация славистов AATSEEL по разным интересным местам, и в тот первый для Галочки американский год конференция была назначена в «городе-герое» Нью-Йорке. Я как участник получил от университета ссуду, но раз уж мы решили быть неразлучно вместе, то пришлось подумать, как эту сумму распределить на двоих. На гостиницу можно было не тратиться: нас пригласила Галина подруга ещё по Питеру остановиться у неё в Бруклине. Прекрасно! К тому же каникулы ведь не только у студентов, — и у нас тоже. Можно было не торопиться и поехать поездом. Ещё лучше! Но являться в гости без подарков как-то негоже… Возникла вполне дед-морозовская идея: привезти с собой живую ёлку!
В дикий мороз мы с новоявленной Снегурочкой рванули в степь на ферму-питомник. Там, от белого просторного дома с двумя неизбежными пикапами на въезде, от бурого сарая с техникой уходили рядами вдаль пушистыми хвойными конусами ёлки, одна другой стройнее и краше. К нам вышел крепкий дядёк ковбойского вида, брызнул синим взглядом из-под козырька и предложил на выбор любую: длиннохвойную, колорадскую серебристую, бальзамическую, тибетскую голубую, но я колебался. Он протянул мне ручную пилу с драконьими зубьями, разведёнными и заточенными, и приглашающе махнул рукой: ищи, мол сам! Нам нужна была небольшая, чтобы поместилась в багаж, эдакая колючая, но очаровательная пацанка-тинэйджер, в переводе с елового на человечий. И наконец, среди переростков и бесспорных, но более зрелых красоток она была найдена. В ней было что-то от непререкаемой стати кремлёвских ёлок. Я полоснул ей по комелю хорошим, добротным орудием, приладился, дело пошло легко, и пахучие опилки забелели, разлетаясь на месте древоубийства. Галя закрыла лицо варежками. Скоро наша смолистая нимфетка была увязана, запакована и отбыла с багажом в славный Град, в Вавилон народов, мечту и цель таких же отщепенцев, как мы.
Убийство? Нет, не совсем: деревцу предстояло ещё пожить до марта, оживляя хвойными ароматами бруклинскую квартиру с окнами в колодец двора. К моему удивлению, такой праздничный подарок сначала сильно смутил хозяйку, а затем она, придумав куда его поставить, развеселилась. Но, возможно, смущение было иного рода. Мне нужно бы раньше подумать о символах или хотя бы вспомнить о статусе религиозных беженцев, установленном здесь для еврейских иммигрантов, выходцев из Советского Союза! Ведь их льготы, как они ни малы, надо было оправдывать с оглядкой на правоверных соседей. Ёлочка же — это радость для одних и предмет неодобрения для других…