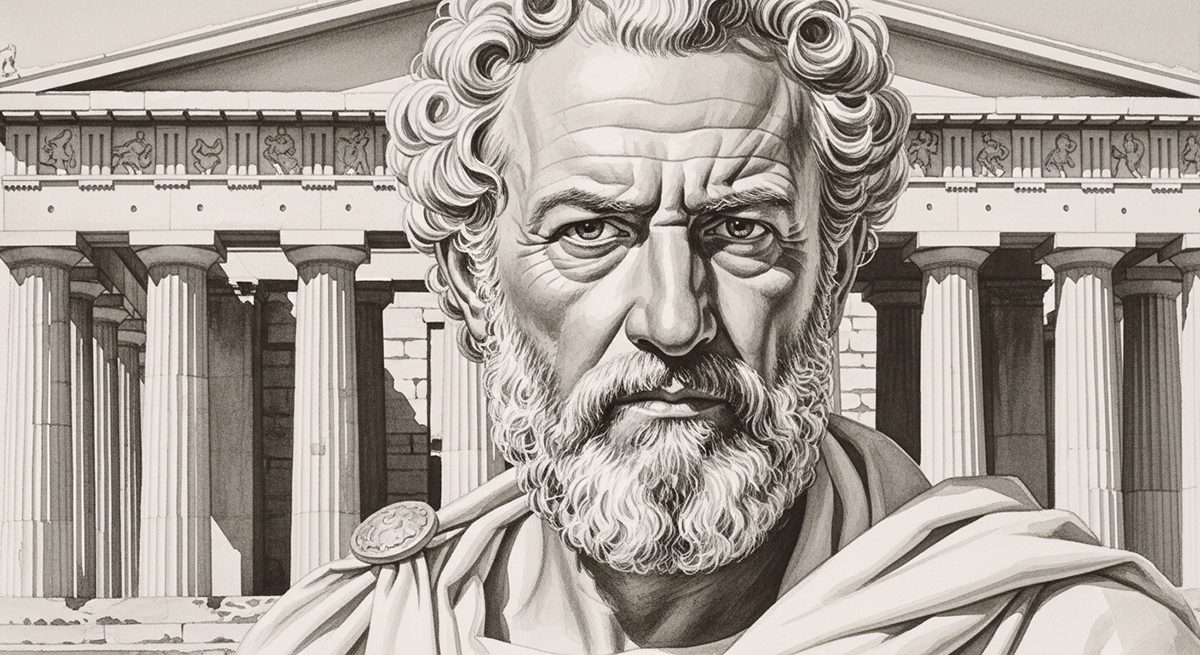
Нет ничего смешнее политики в её натуральном, без завес торжественности и таинственности, виде. Солон считал, что афинская демократия прямиком вышла из театра. Когда будущий тиранн Писистрат явился перед народным собранием в разодранных одеждах, с торопливо исцарапанным лицом, вопия о беззаконии и насилии, Солон тут же объявил, что это приёмы, подсмотренные у трагиков, и негоже гражданам… но граждане уже не слушали докучного старика, а спешили аплодировать ловкачу, который их так здорово позабавил. Политика по внешности, на первый взгляд, – трагедия, а чуть подумай, присмотрись, – так комедия, да из преуморительных. Писистрат, указывающий на свои раны – трагичен, Писистрат, торопливо прыскающий на одежду клюквенным соком – смешон. А если не забывать о клюквенном соке, то и самый торжественный монолог израненного звучит потешно и пародийно. Политическое значение комедии – в обнажении нехитрых механизмов власти.
Нет ничего смешнее политики в её натуральном виде, разве что философия. Философия своего родства с театром стесняется, смотрит спесиво, горделиво, трактует сцену свысока, чурается актёрства. Философия, пока она только мыслит, то не смешна, серьёзна, но и не интересна народу. Что такое мысль? – так… эфемерность, тень чего-то высшего. Для того, чтобы воплотиться, философии нужны слушатели, нужны зрители.
Чего бы Диогену не поставить свою бочку где-нибудь на отшибе, там, где никто бы не отвлекал от кинизма, но нет, он отправляется на рыночную площадь, чтобы устраивать там свои представления, чтобы зрители заметили и его философию, и его презрение к славе.
Философы молчат, встретившись наедине, и спорят только на публике – не пропадать же репликам даром. Но сами философы скованы серьёзностью своей науки, и только комедийная сцена позволяет заострить доводы и выводы, нести в массы истину, не стесняясь её доходчивого выражения. Следующий после политика персонаж комедии – философ.
Нет ничего смешнее политики и философии в их натуральном виде, разве что религия. Эта уж точно вся вышла из театральных представлений. Пока боги существовали только в стихах поэтов, они были мечтами, умозрительными конструктами, живости и действительности им придали театральные эффекты, та хитрая машинерия, которая помогала им появляться под конец представления на сцене, над сценой, где там ещё нужно было по ходу пьесы. Ритуалы священников были небрежно скопированными, с учётом плохой подготовки исполнителей, партиями хора.
Эллинские боги были теми ещё насмешниками и пройдохами. Злыми насмешниками и опасными пройдохами. Религия их причесала и обрядила в пристойные одежды. Комедия вернула богов на сцену в их естественном и непотребном виде. И боги стали карать и награждать героев явно, грубо, зримо.
Как ни злятся политики, философы, боги на комедию, а только благодаря ей они не отправлены ещё под конвоем по месту прописки: политики – в изгнание, философы – в уединение, боги – в небытие. Смех продлевает жизнь осмеиваемым. Во всяком случае, продлевает существование.
Вся умственная история человечества началась трагиками, чтобы потом стать материалом для комедии.
Аристофан был политиком, философом и религиозным мыслителем. Но природная живость ума мешала ему остановиться на чём-нибудь одном: пришлось, чтобы совместить, становиться комедиографом.
Греко-персидские войны, осмысленные Эсхилом в трагедии «Персы», показали, что силы варваров несчётны, необоримы, но бесполезны, когда им противостоит свободный человек, гражданин свободного Отечества. Трагедия рассказала о борьбе с Врагом и определила смысл Эллады. Задачей комедии было охранять свободу здесь и сейчас, не стесняясь мелочности и пакостности врагов, вражков, вражат.
Те, кто пытаются уничтожить свободу, начинают с того, что требуют от неё соблюдения приличий или даже нравственности, ответственности. Дескать, мы понимаем значение свободы, её величественность, благородство, священность; именно поэтому ждём от неё благопристойности – негоже рядить прекрасную деву в одежды непотребной девки. Трудно за высокопарностью подобных речей не распознать злого умысла. Те, кто посягают на свободу бранного слова, потом уничтожают свободу слова вообще. Свобода как естественное проявление человеческой сущности начинается с простого и понятного, начинается с сальности, похабности, с телесного низа. А убери этот фундамент – и что останется от свободы? Облака, которые уплывут с первым дуновением ветра.
Аттическая комедия не стеснялась своего происхождения от народных обрядов плодородия, славных своим натурализмом.
Рассуждая о самых высоких литературных, политических, философских или даже религиозных материях, Аристофан не забывал добавить перцу, ввернуть грубую, скабрёзную шутку.
Вот как Лисистрата в одноимённой комедии учит соблазнять мужчин, являясь им:
В коротеньких рубашечках в прошивочку,
С открытой шейкой, грудкой, с щёлкой выбритой…
Ещё в комедии никак нельзя обойтись без шуток про дерьмо:
Смешно, Сократу в рот наклала ящерка!
И зрители понимали, что это не трагедия, что с ними со сцены говорят на равных – значит, надо прислушаться.
Мы привыкли считать, что античные трагедии – а тем более, комедии – писались ради сиюминутного успеха, первого места на состязаниях, и для драматурга показалось бы дикостью задумываться о дальнейшей судьбе своих творений. Но, возможно, это не совсем так. Когда комедия «Облака» заняла на празднике третье место из трёх, то Аристофан, не рассчитывая на новую постановку, тем не менее, переделал пьесу, создав тот вариант, который мы сейчас читаем. И не только с «Облаками» он так поступал.
Элевсинские мистерии были тайной, о которой знали все и всё. Именно поэтому сакральные реалии, которыми Аристофан напичкал комедию «Лягушки», одновременно были и понятны, и вызывали священный ужас. Каждый зритель осторожно оглядывался по сторонам – те, кто по соседству, понимают? Понимают! Значит, мы все тут на театральном действии свои, и равно стыдимся и пугаемся происходящего. Думаю, что на следующие после спектакля мистерии люди приходили по-новому растревоженные и лучше готовые для восприятия священной истины.
Любая религия, пока она – живое народное дело, а не искусственно воскрешенная старина, не то что терпит, но требует время от времени прилюдного кощунства. Многие вольнодумные песни вагантов и такие пародирующие церковную службу произведения, как «Киприанов пир» или наша «Служба кабаку», вышли если не из непосредственно клира, то из кругов околоцерковных. Средневековые мистерии, фривольно обходившиеся с Христом и его святыми, получили свою теологическую смелость в наследство от комедий Аристофана.
Комедия «Лягушки» – единственная сохранившаяся до наших дней пьеса, где действуют два хора. Хор мистов, тех, которые прямиком из элевсинских мистерий, – и хор лягушек, хладнокровных тварей из стигийского болота, чьи голоса преследовали Диониса, плывущего по гибельным даже для бессмертного хлябям. Зрители восторгались хором мистов, но читателям лучше запомнился хор лягушек. Именно из его песен Андерсен заимствовал своё знаменитое «Брекекекекс!» в репликах жабы. А в советском фильме о Буратино лягушки, которые плавают вокруг черепахи Торитиллы и подпевают её речитативам, – разве это не классический диалог актёра и хора, разве это не прямиком из аристофановских «Лягушек»?
В комедии «Лягушки» в центре был литературный спор. Дионис спустился в Аид, чтобы вывести оттуда величайшего драматурга. Дионис шёл за Еврипидом. Но понимание справедливости, присущее олимпийцам, заставило его устроить соревнование. Еврипид против Эсхила. Они читают свои стихи, и пристрастный бог никак не может выбрать: хочется легкомысленного Еврипида, а надо – могучего Эсхила. И что решает спор между двумя трагиками? Дурацкая шутка. После каждой строки, произнесённой Еврипидом, Эсхил паскудничает, добавляя: «потерял бутылочку».
Еврипид:
«Могучий Кадм, великий сын Агенора,
Сидон покинув…
Эсхил:
Потерял бутылочку.
***
Еврипид:
«Пелоп, дитя Тантала, на лихих конях
Примчавшись в Пизу…»
Эсхил:
Потерял бутылочку.
***
Еврипид:
«Эней однажды»
Эсхил:
Потерял бутылочку.
Ещё и ещё, с каждым разом только смешнее. Театр неистовствует. Все ведь понимают, что выражение «потерял бутылочку» имеет ещё и значение «потерял мужскую силу». Дионису ничего другого не остаётся, как только присудить победу Эсхилу.
Вот вам божественная справедливость: тот, кому победа полагается по праву, получает её благодаря недостойным ухищрениям.
Такое ощущение, что Аристофан «даже кушать не мог», такую личную неприязнь он испытывал к Еврипиду. Не в одних «Лягушках» досталось несчастному трагику. В «Лисистрате» он выведен как завзятый женоненавистник, как случай патологический даже на фоне обычной греческой мизогинии. Аристофан пытался выдать свою неприязнь за идеологическую, но, похоже, всё дело было исключительно в литературных делах. Два пацифиста, которым можно было бы и объединить усилия, вели нескончаемую и беспощадную войну друг с другом.
Тогда литература была более упорядоченной: трагик писал трагедии, комедиограф – комедии; казалось, Аристофану и Еврипиду нечего было делить. Разве что кроме языка и литературы на нём.
Интеллектуальный стиль и холодный психологизм Еврипида, «расчётливого фокусника слов», претили Аристофану, казались отходом от настоящей поэзии. Еврипид «путал петли, губы ядовито сжав», то есть выдумывал свою поэзию, своих вычурных героев, тогда как комедия, да и подлинная трагедия, в лице Эсхила имели дело с изначальными, врожденными проблемами бытия и человечества.
Как бы там ни было, положение Аристофана было выгоднее: он мог вывести в своих комедиях Еврипида, а вот законы трагедии были куда строже.
Пелопонесская война. Афины воевали со Спартой и довоевались до такого состояния, что уже было не важно, кто побеждает – точнее, было понятно, что побеждают только те, кто в этой войне не участвовал. Оба города были обескровлены и обессилены до такой степени, что даже не могли остановить войну. Общественное мнение в Афинах колебалось в диапазоне от шапкозакидательства до паники. Мало что оставалось таким же неизменным, как последовательный пацифизм Аристофана: не одна «Лисистрата», но и многие другие комедии были написаны с одной целью – прекратить вражду между греками.
Если кто кому ничего не должен, так это феминистки – Аристофану. Умные и решительные женщины были ему нужны в пьесах только для того, чтобы высмеять глупых и размякших мужчин. Но получилось то, что получилось; автор, тем более, драматург, не властен над своими героями, тем более, героинями. Не мифологическая, вроде Елены и Электры, а современная женщина с её проблемами и надеждами впервые получила голос в комедии Аристофана.
Знай, для женщин война – это слёзы вдвойне!
Для того ль сыновей мы рожаем,
Чтоб на бой и на смерть провожать сыновей?
Но Лисистрата не просто по-женски, по-бабьи, по-обывательски понимала чудовищность войны – она проникла в экономическую суть происходящего, она научилась обобщать: война – это страдания многих ради обогащения немногих. Лисистрата – первая политическая деятельница и даже мыслительница на греческой сцене.
Советник:
Так ты думаешь, золото – корень войны?
Лисистрата:
И войны, и раздоров, и смуты.
Для того, чтобы мог наживаться Писандр и другие правители ваши,
Постоянно возню затевают они.
***
Советник:
Что? Казной управлять собираетесь вы?
Лисистрата:
Что ж ты странного в этом находишь?
А доныне домашнею вашей казной мы, хозяйки, не правили разве?
***
Советник:
Для войны нам нужны эти деньги.
Лисистрата:
Да войну-то нам вовсе не надо вести.
Из всех пьес Аристофана «Лисистрата» ставится в современном театре чаще всего. Оболганная моралистами похоть остаётся единственной возможностью прекратить убийства. Может быть, способность Аристофана и неспособность Еврипида делать подобные выводы послужила настоящей причиной их вражды.
Аристофану часто доставалось от политиков, над которыми он насмехался, но звание комедиографа и привлекает удары врагов, и одновременно является щитом от них. Кого-то изгнали, кого-то, как Сократа, и вовсе казнили, а Аристофан жив-живёхонек дожил до собственной смерти.
Когда комедиограф насмехается над политическим деятелем, то нет ничего глупее, чем пытаться убедить зрителей, что насмешничают не над одним, может, и заслуживающим порицания политиком, но надо всем государством, над Отечеством. Зрители, только что заходившиеся хохотом над удачными остротами, понимают, что такое обвинение и их краем задевает: они что ж, получается, на счёт Отечества забавлялись? Нет, извини, друг-демагог, ты нас не замазывай, мы смеялись над тобой и только над тобой.
Афинские политики не были настолько дальновидны, чтобы отказаться от таких очевидных выпадов, афинский демос был настолько предсказуем, что не готов был осудить своего комедиографа. В таком тяни-толкании аттическая комедия становилась сама собой, не жалеющей ради красного словца никого, даже собственного автора. Иногда актёры, несмотря на маски, боялись произносить со сцены совсем уж смелые слова, откровенные политические лозунги, и тогда старик-комедиограф надевал цветастые одежды, привязывал к ногам котурны и неверным шагом шёл произносить крамольное: а что, ему от этого хуже уже не будет.
Свобода слова никогда не результат, но всегда процесс.
Котурны, конечно, атрибут трагедии, но в таком авторском исполнении был уже нешуточный элемент трагического.
Одно расстройство шутить над политиками – какую только глупость им ни припиши комедиограф, так глазом не успеешь моргнуть, как они сами по себе учудят что-то ещё глупее и смешнее. Гонится за политиком насмешник, как Ахиллес за черепахой, и уже непонятно, кто более смешон в этом нелепом состязании.
Есть теория о том, что каждый из нас ищет в любви свою половинку. В полной версии этот миф звучит так: боги, разгневавшись на людей или убоявшись их возрастающих сил, разделили каждого на две половины: из разделённых мужчин появились мужеложцы, из разделённых женщин – лесбиянки, и только всякие межеумки-гермафродиты распались по привычному образцу на мужчин и женщин. Всё это в диалоге «Пир» рассказал Сократу Аристофан.
Кажется, они были хорошими приятелями.
Как же так получилось, что в комедии «Облака» Сократ выведен в таком пройдошеском виде? Просто клейма негде ставить. Аристофан приписал Сократу все ненавистные тому пороки софистов. Сократ, учреждающий школу, Сократ, собирающий деньги с учеников, Сократ, занятый физикой, геометрией, вообще чем-то, кроме нравственной философии – это АнтиСократ. Даже Сократ, ворующий плащи на палестре, ближе к настоящему Сократу, чем этот софист. Что-то определённо есть в этой комедии, что не позволяет трактовать её как прямой пасквиль, подлое обвинение, приведшее потом Сократа к казни. Напомним, что все остальные люди, которых Аристофан хотел высмеять, были в его пьесах абсолютно узнаваемы, а назови хозяина «мыслильни» другим именем, так кто бы подумал на Сократа? Философов, а тем более софистов, в тогдашних Афинах тьма-тьмущая была. Это мы сейчас помним только Сократа и его клику.
Кто бы помнил Сократа, если бы о нем не написали свои пьесы Платон и Аристофан? Как будто эти двое нарочно сговорились живописать одного и того же персонажа: один – белыми, другой – чёрными красками, и посмотреть, у кого картинка живей получится. Платон в этом состязании победил.
Если кто и мог понять сущность аристофановского юмора, так это Сократ, который не снисходил до остроумия – зачем, когда и так вокруг столько всего смешного: политика, религия, а особенно – люди, принимающие всё это всерьёз. Но от Аристофана ждали смешного, и ему всё сходило с рук, слова же Сократа восприняли всерьёз и оценили чаркой цикуты. Может быть, выводя Сократа в «Облаках», Аристофан так пытался спасти друга: кто же казнит героя комедии?
Аристофану принадлежит неологизм, самое длинное слово в греческом языке: λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο- κρανιολειψανοδριμυποτριμματο- σιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενο- κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα- λεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπε- λειολαγῳοσιραιοβαφητραγα- νοπτερύγων. Каждый поэт так или иначе меняет язык, получает одним, возвращает другим, только не всегда эти новшества так заметны, как в случае Аристофана.
Времена расцвета Афин оставались позади, и на место комедии политической, идеологической приходила комедия нравов и положений. Сохранилась легенда, что первой такой беззубой и безопасной комедией стала пьеса «Кокалос», написанная под конец жизни Аристофаном. Понимая, что такая комедия – это признание собственного поражения, Аристофан поставил её от имени сына.
Аристофан чувствовал свою кровную связь с исконной аттической традицией не только комедии, но и веры, и демократии. Новшества были ему не по душе. Обычно комедиографа представляют на острие прогресса, но это упрощение. Прогресс и консерватизм смешны в равной мере, и в лучших политических комедиях это очевидно. «Горе от ума» свободно, с истинно протеевской амбивалентностью читается как текст либеральный или консервативный, западнический или славянофильский, свободолюбивый или охранительный. Смех уравнивает всех и вся. Но во времена, когда интеллектуальная элита вся сплошь прогрессистская, комедиографу самое место среди консерваторов. Да, прогресс и консерватизм смешны одинаково, но умники, делающие глупости, смешнее дураков.
Комедии Аристофана отличаются онтологическим юмором. Аристофан видел смешное абсолютно во всём. Есть юмор придуманный, своеобразный, юмор как следствие остроумия – это юмор Менандра, Плавта, Вольтера, юмор автора любой современной комедии, юмор сочинителей. А есть юмор, изначально и неистребимо присутствующий в мироздании, юмор как одно из свойств бытия, одно из свойств Бога, наряду с Вечностью и Всемогуществом. Не знаю, кого тут можно поставить в один ряд с Аристофаном. Может быть, Гоголя, зрелого Гоголя, Гоголя времен «Ревизора» и «Мёртвых душ», да ещё тех писателей, которых никак юмористами не назовёшь: сколько всего смешного видели в жизни Достоевский и Толстой.
Аристотель писал, что из всех животных смех присущ только человеку. Это и роднит нас с богами, чей олимпийский смех мы разучились воспринимать, только он не стал от этого ни тише, ни благостнее.
В нынешнем обществе, уже не понимающем разницы между чувствами людей и чувствами животных, между умом человеческим и умом машинным, только смех ещё сохраняет дистанцию между человеком и нет, между живым и мёртвым. Закончим смеяться, и всё – утонем в энтропии, как в поганом болоте!
Вместо формул Маяковского, чьи комедии, кстати говоря, критики часто сравнивали с аристофановскими – так вот, вместо формул: «Долой вашу любовь!», «Долой ваше искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!», время провозгласить: «Смешна ваша любовь!», «Смешно ваше искусство!», «Смешон ваш строй!», «Смешна ваша религия!» А раз смешны, то, стало быть, и живы!
Театр готов, зрители замерли в ожидании! Посмеёмся постольку, поскольку мы ещё люди!


















